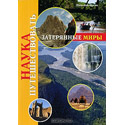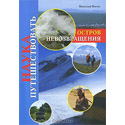Нижний Новгород. Сворачиваем с Ильинской улицы на Почтовый съезд и подходим к небольшому деревянному дому. Читаем табличку «В этом доме в раннем детстве в 1871-72 годах жил Алеша Пешков (Максим Горький). Накатывают воспоминания детства – урок литературы ( у нас была замечательная учительница литературы), повесть «Детство». И врезавшаяся с тех лет в память цитата – « Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди…»
Подходим к закрытым воротам и стучим в дверь.
- Музей работает? Можно посмотреть дом?
- Конечно, заходите, — отвечает немолодой мужчина.
Заходим во двор. Вспоминаем книгу.
Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязнорозовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьёв метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.
Действительно, снаружи дом кажется большим. А внутри все такое маленькое, игрушечное. И дворик, и сам дом, и хозяйственные постройки. Даже непонятно, как тут жили 16 человек. Но вот едкого запаха нет. Все же это музей, а не производство.
Входим в дом, покупаем билеты и идем осматривать комнаты. Здесь воспроизведена подлинная обстановка дома деда и бабушки писателя.
Полное впечатление жилого дома. Только очень хорошо убранного перед приходом гостей. Кажется, что хозяева совсем недавно вышли за порог. Идем осматривать комнаты.
Кухня. У окна стол, накрытый самотканной скатертью, на столе большое деревянное блюдо для еды, деревянные ложки и солоница, тарелка для резки мяса, огарок свечи в железном подсвечнике. В правом углу — иконостас, в левом — «горка» с посудой. Вдоль стены — русская печь.
У печи, в деревянной лохани розги, напротив — деревянная скамья, на которой Василий Каширин порол внуков. Досталось и маленькому Алексею.
Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон.
Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.
Так Алексей сделал свой большой шаг к карьере писателя.
Из кухни дверь ведёт в комнату деда. В этой комнате, у стены стоит диван. Над ним висит большая фотография — гласные Нижегородской думы 1862—1863 гг. В центре помещения — стол, на нём раскрытая книга, рядом — гусиное перо для письма. В переднем углу, под иконами — сундук-подголовник для хранения ценностей, около двери — горка с парадной посудой. На вешалке, возле печи — парадный кафтан старшины красильного цеха и бархатный жилет. Около двери, на гвоздике висит енотовая шуба.
Все чисто и уютно. Ничего не напоминает о страстях, бушевавших здесь более ста лет назад.
Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли.
Следующее помещение — комната бабушки. У окна комод, на нём — копилка, сундучки-укладки, предметы для рукоделия. Рядом с комодом, у окна подушка с коклюшками.
Вдоль стены — кровать с пуховой периной, покрытая стёганым одеялом, сверху — гора подушек в белых наволочках. За кроватью, в углу — большой деревянный сундук. На нем спал Алексей Пешков, известный нам как Максим Горький.
Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжёлым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.
На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стёкла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая тёмные глаза фосфорическим огнём. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, тёмное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.
Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдёт к постели, а я притворяюсь, что крепко уснул.
— Ведь врёшь, поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!
Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:
— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!
Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дёргает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлёпаюсь в мягкую перину, а она хохочет:
— Что, редькин сын? Съел комара?
В каждой комнате есть икона. Так что можно молиться не мешая другим.
Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:
— Расскажи про бога!
Она говорила о нём особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь … Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо её молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет
Комната Михаила — дяди А. М. Горького. Обстановка комнаты: комод, овальное зеркало, полумягкий диван с резной спинкой. Около окна небольшой стол, на нём медный самовар с чайной посудой, штоф из-под вина, большие рюмки. На стене, над комодом висят семейные фотографии. В комнате можно увидеть парадную одежду: сюртук из чёрного сукна, рубахи-косоворотки, тканые пояса, женские платья.
Через сени, заставленные различной хозяйственной утварью можно по лестнице спуститься в полуподвальное помещение или выйти во двор. Во дворе находятся хозяйственный постройки: красильня, сарай, каретник.
Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:
— Сандал — фуксин — купорос…
Вдоль забора расставлены старые котлы, к забору прислонён дубовый надмогильный крест, напоминающий о трагической гибели Вани Цыганка
Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонён к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, — тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло морёным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.
Есть еще небольшой дворик, на котором установлен памятник маленькому Алексею. Весеннее солнце, греющийся на пеньке черный кот …
В целом, музей оставил очень приятное впечатление. Отлично передана атмосфера тех лет, легко можно представить жизнь персонажей романа Максима Горького, прикоснуться к детству писателя и вспомнить свои школьные годы. Делаем запись в книге посетителей и идем дальше осматривать город.
Николай Носов. Нижний Новгород. Март 2014
Другие материалы о поездке -
















 Рубрики:
Рубрики:  Теги:
Теги: